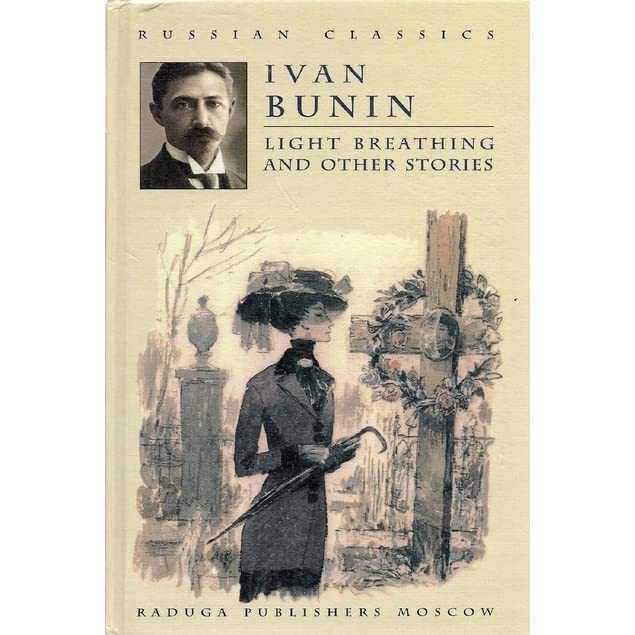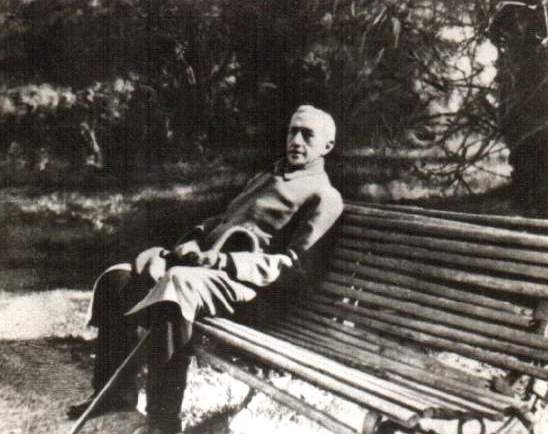К 150-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина
Виталий Орлов
«Унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается:
нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил
когда-то!»
И. Бунин.
После выхода рассказов «Господин из Сан-Франциско» (1915), романа «Жизнь Арсеньева» (1930) литературная слава Ивана Бунина распространилась в Европе. Его высоко ценили Райнер-Мария Рильке, Томас Манн, Франсуа Мориак, Ромен Роллан, и когда в очередной раз встал вопрос о том, кто из русских писателей должен стать первым в ряду нобелевских лауреатов (Лев Толстой в свое время отверг возможность получения премии, а кандидатура Горького, писателя то ли просоветского, то ли антисоветского, казалась мировой литературной общественности двусмысленной), имя Бунина всплыло само собой. Впервые он был выдвинут в 1923-м, затем в 1926-м, а начиная с 1930-го вопрос о его кандидатуре вставал ежегодно. Однако решение поначалу готовилось неприемлемое: присудить о д н у премию Бунину и Мережковскому (а возможно, еще и Куприну). Бунин единожды в жизни смирился с «половиной» премии, но тогда его «компаньоном» оказался Куприн, человек и писатель близкий, а теперь – представитель глубоко чуждого «декадентского» направления и лично неприятный ему человек. Скорее всего, судьбу премии решило мнение Ромена Роллана, который согласился, чтобы она была разделена между Горьким и Буниным, но не между Буниным и Мережковским…
Шел ноябрь 1932 года. В эту пору обычно объявляли нобелевских лауреатов. В доме Буниных в Грассе напряжение достигло края. Утренних французских газет ожидали с трепетом. Первым их разворачивал Иван Алексеевич. Можно вообразить себе его волнение. Уж скорей бы грянул этот удар! В прошлом году это было сделано раньше, чем ожидали. Днем была получена неосторожная и, может быть, неуместная предпоздравительная телеграмма из Берлина, взволновавшая весь дом. Вечером говорили о ней во время прогулки. Иван Алексеевич, как он сам говорил, держался в этом состоянии естественно. Но хотя излишней нервозности не было, волнения все же были: покупали больше газет, особенно после внезапного упорного появления в печати имени Мережковского. Но и в этот день, 6 ноября, он продолжал писать. К 8 ноября ожидание известия о премии стало болезненным. Кто-то прислал вырезку из газеты с портретом Мережковского, и это произвело тяжелое впечатление.
11 ноября все узнали, что премию получил англичанин Джон Голсуорси. Закончилась пытка ожиданием. «И вообще все это от лукавого, – думал Бунин, – нужно перестать тревожиться, уже два года этому, нужно заняться обычными делами, все равно русским не дождаться этой премии».
Иван Алексеевич, кажется, больше всех почувствовал облегчение при получении известия о назначении премии Голсуорси. Бунин с каким-то добрым лицом поругал шведов и пошел в свой кабинет писать.
А ровно через год, 15 ноября 1933 г., его провожали в Стокгольм…
За неделю до этого, чтобы сбросить с себя напряжение и скорее прошло время, все, кроме Веры Николаевны, жены Бунина, пошли в кино. Иван Алексеевич нервничал и сначала даже как-то плохо, невнимательно смотрел фильм. В кинозале было холодно, он мерз, поэтому в перерыве вышел в бар напротив выпить коньяка. Было четыре часа, началась вторая серия, когда внезапно сзади в темноте зала блеснул свет ручного фонарика. Все последующее происходило как-то тихо, но тем более ошеломительно. Пришел Леня Зуров, подошел сзади в темноте, нагнулся, и, чмокнув Ивана Алексеевича, сказал: «Поздравляю Вас… звонок из Стокгольма…». Бунин некоторое время оставался сидеть неподвижно, потом стал расспрашивать.
Дома их встретила красная и до крайности взволнованная Вера Николаевна. Она рассказала, что уже опять звонили, поздравляли из Стокгольмской газеты. Потом начались почти непрерывные телефонные звонки из Стокгольма и разных газет. Потом пришла телеграмма от Шведской Академии: «Решением Шведской Академии от 9 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена Ивану Бунину за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер.»
Автор «Жизни Арсеньева», младший и последний из русских классиков, стал нобелевским лауреатом.
За всю историю присуждения Нобелевских премий было только пять отечественных лауреатов. Судьбы русских лауреатов в области литературы складывались трагично. За единственным исключением, все они оплатили «стремление к идеалу» дорогой ценой.
В одних воспоминаниях о Бунине сказано: «Он жил так, будто нес перед собой свечу». Действительно, его умственному взору всегда предстоял образ трепещущей, золотистой, горячей земной красоты, подобный огоньку свечи, который делает теплым и живым пространство сумрачного мира, но который так легко загасить. Вся первая половина его жизни, до февральского и октябрьского переворотов, была наполнена предчувствием краха того золотисто-солнечного, южно-теплого мира, который Бунин боготворил; а вторая – тоскующему воспоминанию о нем.
В стихотворении 1916-го года, написанном у роковой черты исторического перелома, Бунин прибегает к страшному символу:
Черный бархатный шмель, золотое оплечье,
Заунывно гудящий певучей струной…
Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля.
Детство Бунина, родившегося в Воронеже, в 1870-м, прошло на хуторе Бутырки, под Ельцом. Бунин принадлежал к одному из самых знатных «литературных» родов, даровавших русской литературе поэтессу Анну Бунину, Василия Жуковского, славянофилов Киреевских. Но когда Бунин с конца 1880-х начал печататься со своими провинциальными «надсоновскими» стихами, никто не мог угадать, кто из него выйдет. Как и большинство «восьмидесятников», он рос под воздействием идей и личности ЛьваТолстого. «Проблема Каратаева» – одна из главных, одна из неразрешимых для Бунина, всю жизнь пытавшегося понять, каким образом русская тяга к завершенности, полноте, гармонической цельности, «округлости» сочетается со столь же неодолимой тягой к бесформенности…
Но каждый непредвзятый читатель бунинской прозы признает: она находится по ту сторону толстовской традиции, ибо чужда грубоватой энергии реализма времен его высшего расцвета, летнему буйству его красок и стремлению к универсальности, всеохватности взгляда на мир. И чем более зрелым писателем становился Бунин, тем «холоднее», «суше», «детальнее» оказывалась его стилистика, тогда как вектор собственной жизни, напротив, был направлен с севера на юг.
В 1900-е годы, обретя литературную известность и, значит, некоторую материальную независимость, Бунин начал регулярно путешествовать и практически все холодное время года проводил в странствиях: Турция, Малая Азия, Греция, Египет, Сирия, Палестина, Алжир, Тунис, Цейлон; изъездил почти всю Европу, особенно Сицилию и Италию.

Members of the Moscow literary group Sreda in 1902; Top L>R: Stepan Skitalets, Feodor Chaliapin and Yevgeny Chirikov; Bottom L>R: Maxim Gorky, Leonid Andreyev, Ivan Bunin and Nikolai Teleshov.
Когда же, пережив две неудачные женитьбы (на Варваре Пащенко и Анне Цакни, которая родила ему сына Колю, умершего четырех лет отроду), писатель встретил в Петербурге племянницу Председателя Государственной думы Веру Николаевну Муромцеву, то повез ее в свадебное путешествие на Восток: в Турцию, Египет, Иудею. Внешне все было благополучно.
Но на душе становилось все тревожнее. Гримаса грядущего отчетливо проступала во всем, в том числе и в языке – в стихии, святой для Бунина. Если бы даже Бунин принял революцию «идеологически» (представим на миг невозможное), он не принял бы ее эстетически, ибо предвозвещать на протяжении всего творчества неизбежное торжество хаоса и приветствовать его наступление – совершенно разные вещи.
26 января 1920 года он отплыл из Одессы в Константинополь, чтобы уже никогда в Россию не вернуться. Разверзшаяся геенна революции была для Бунина не попранием демократии и культуры, как для Горького, и не победой тирании, как для Короленко, но прежде всего невосполнимой утратой красоты, строя, лада, победой бесформенности: «В том-то и дело, что всякий русский бунт (и особенно теперешний), – пишет Бунин в «Окаянных днях», – прежде всего доказывает, до чего же все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности.» В «Окаянных днях» особенно заметно, что новая российская жизнь для него не потому безобразна, что ужасна, а потому ужасна, что безобразна. По поводу «Окаянных дней» Твардовский, которого ценил Бунин и который сам высоко ценил Бунина, в 1965 году написал: «Бунинские писания, подобные его дневникам 1917-1918 годов «Окаянные дни», где язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем лишь иссушающую злобу «его превосходительства, почетного члена императорской Академии наук», застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения, – эти писания мы решительно отвергаем.» Что ж, и Твардовского, как известно, тоже умели наклонять… Написанное Буниным есть одновременно и летопись, и исследование, и обличающая инвектива: потому-то «Окаянные дни» фиксируют, что вместо звенящей розово-золотой зимы на земле воцарилась окаянная весна, и только кроваво-красные транспаранты хлопают на ветру.
Поначалу жизнь Бунина в эмиграции – это цепь внезапных перемен от лучшего к худшему и наоборот. Сначала он живет в Париже, у Михаила Осиповича Цеткина, своего издателя, и его жены Марии Самойловны. Но в городе он совершенно не может писать и перебирается поближе к морю, сняв виллу в Грассе. С 1927 по 1929 год Бунин работает над одним из лучших своих романов «Жизнь Арсеньева», возвращаясь к нему вплоть до английского издания 1933 года. До войны писатель жил тихой, сосредоточенной жизнью, редко выезжал. Чем настойчивее предвоенная и военная История толкала его в общее европейское русло, тем более подчеркнуто культивировал он в себе русского писателя. Точнее – последнего русского писателя, который как бы зашел на прощание в «особняк» отечественной культуры поклониться родной обители, уйти и погасить за собою свет.
Свет и был погашен – название вершинной книги Бунина: «Темные аллеи» (впервые 11 рассказов издано в Нью-Йорке в 1943 году). А в 1953 году он скончался…
Но были не только «окаянные дни» в жизни Бунина. Были и Нобелевские дни. Поездка в Стокгольм была совершенно спокойной. В Мальмё его встретила депутация под предводительством русского, Хадомирова, и толпа журналистов. Фотографировали при выходе из вагона. Шведская журналистка поднесла Вере Николаевне цветы. Потом началась кутерьма с плацкартами – нобелевский лауреат оказался изгнанным из своего купе вместе с его «свитой». На вокзале в Стокгольме его встретила уже толпа, русская и шведская. Какой-то русский произнес речь, поднес «хлеб-соль» на серебряном блюде с вышитым полотенцем, которое кто-то тут же ловко подхватил.
Как известно, имена писателей – лауреатов называет Шведская Академия. Вручение дипломов и золотых медалей с профилем Нобеля происходит раз в год 10 декабря в концертном зале Стокгольма.
10 декабря 1933 года утром Ивана Алексеевича Бунина возили возлагать венок на могилу Нобеля. В газетах – портреты всей «свиты» Бунина на чае в русской колонии, человек 150. А потом – самая важная церемония. Иван Алексеевич в момент выхода на эстраду был очень бледен, у него был какой-то трагически – торжественный вид, точно он шел на эшафот или к причастию. Его печально бледное лицо, наряду с лицами трех молодых прочих лауреатов, обращало на себя внимание. Дойдя до кафедры, с которой члены Академии должны были читать свои доклады, он низко, с подчеркнутым достоинством поклонился.
Церемония выхода короля с семьей была очень торжественна. Зал был убран только шведскими, желтыми с голубым, флагами. Это было сделано из-за Бунина, у которого не было флага…
Вечером был банкет в большом зале Гранд-отеля. Посреди – главный стол, за которым, среди членов королевской семьи, сидели лауреаты. Ивану Алексеевичу предстояло в этом огромном чопорном зале, перед двором, говорить на чужом языке. Он сидел с принцессой Ингрид, большой, красивой, в голубом с собольей оторочкой платье. Говорить ему пришлось очень поздно, уже после того, как принесли десерт. Но волнения были напрасны. Он говорил отлично, твердо, с французскими ударениями, с большим сознанием собственного достоинства и временами с какой-то упорной горечью:
«Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда. Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я 9 ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской Академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику… Есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести – то, чему мы обязаны цивилизации. Для писателя эта свобода необходима особенно».