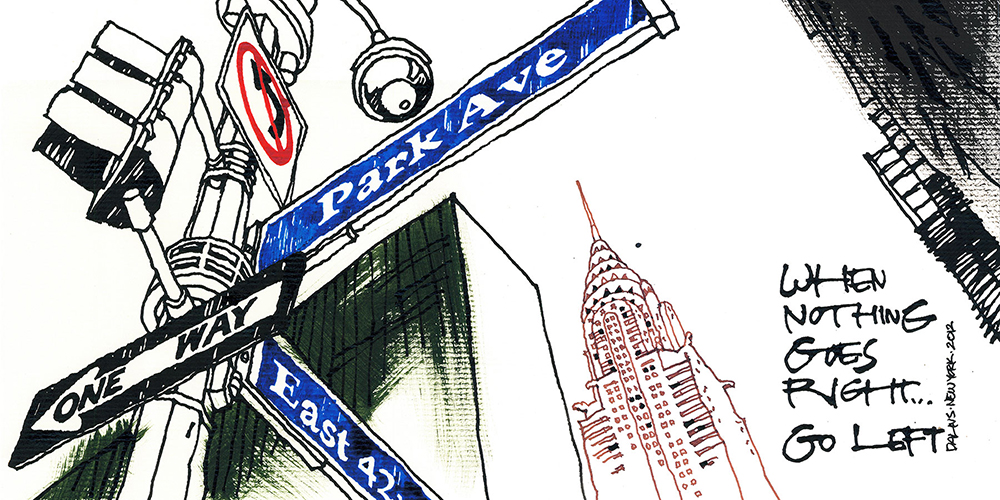Литературные пятницы
Авторская страница Михаила Яснова
Наш сегодняшний гость – петербургский поэт Михаил Яснов. Подрастающее (а также уже подросшее) поколение знает его как замечательного детского поэта, автора чуть ли не сотни детских книжек, чьи песенки про Паукана и Чучело-Мяучело распевают уже дети тех, кто пел их лет 20 назад. Русские знатоки французской поэзии (те, кто обращают внимание на имя переводчика) наверняка радовались, узнав, что Яснов стал лауреатом премии им. Мориса Ваксмахера, которую вручают Французское правительство и Посольство Франции в Москве, что Гильдия «Мастера литературного перевода» присудила ему премию «Мастер»… впрочем, к чему лукавить, читатели обычно понятия не имеют, какими там званиями и регалиями может похвастать любимый автор, да и не интересуются этим вопросом. Я знаю Яснова уже больше 30 лет, все эти годы я его читаю (и почитаю), но даже и у меня не хватило терпения изучить его «резюме» и хотя бы пересчитать все эти весьма солидные литературные премии, так что напишу обтекаемо: лауреат более чем двух десятков престижных премий, талантливый и заслуженно знаменитый современный русский поэт.
Эта подборка – не туристские впечатления о Нью-Йорке. Автор объединил свои стихи в цикл с очень точным названием «Алфавит разлуки»… Итак, стихи из этого цикла.
– Ирина Акс.
Владимиру Аленикову
Двадцать лет сплошные проводы,
перекличка слов банальных…
Вот и все надежды пропиты
на безудержных отвальных.
И мечты о вольном дружестве,
словно в детстве страхи-ужасти,
не успев наружу вылезть,
поманили – и забылись.
Шлют привет из Досвидании
наши лели и хариты.
Слава богу, тени давние
не сидят и не убиты.
Но, вкусив разлуки досыта
и пройдя полмира пó свету,
возвращаются друг к другу –
как бутылочка по кругу.
Словно в детстве возле колышка,
сядем рядом узнаваться.
На кого покажет горлышко –
с тем и будем целоваться.
 А когда веселье кончится,
А когда веселье кончится,
вслед молве и старым сплетням,
золотого одиночества
из горлá хлебну последним.
***
Не хватает ерунды, дурости, трепа
с теми, кто сходит с трапа,
выбирая ступеньки поближе к раю.
Теперь их Манхеттен с краю.
Что же меня тревожит и что задачит?
Отныне мой день закончен, когда их начат.
Лишившись единства времени, места, жизни,
мы понимаем, что прежде жили при классицизме.
У них начинается место, у нас – время.
А жизнь остается с теми и с теми:
мечется с места на место, часы на часы меняя, –
где там поближе к раю?
***
«Изгнание – патент на благородство.
А ты хлебай свое дерьмо и скотство!» –
не так ли ты со мною говоришь,
мой новообретенный нувориш?
Хлебаю. И уже не строю виды.
Я с будущим расчелся навсегда.
И нет постыдней праведной обиды.
И нет обидней ложного стыда.
***
Я пошел на выставку Шагала,
чтобы встретить тех, кто не уехал.
Оказалось, их не так уж мало:
были там Наташа, Юля, Алла,
были Рабинович и Хаймович,
Саша, Маша, Вова, доктор Пальчик.
Алла говорит: «Мы послезавтра».
Юля говорит: «Мы на подходе».
«Там нельзя, – откликнулась Наташа, –
там нельзя, но здесь невыносимо».
«В Раанане, – отвечает Саша, –
тут, у нас, все очень даже можно:
можно жить, работать можно дружно».
«А у нас, под Вашингтоном, душно, –
Вова говорит, – и нет работы».
Маша возражает: «Здесь прелестней –
швабский воздух, пиво, черепица…»
Доктор, доктор, надо ль плакать, если
Диделя давно склевали птицы?
Рабинович сел на стул при входе –
он в летах, и у него одышка.
А Хаймович – тот совсем мальчишка,
правда, он в Освенциме задушен
и скользит, как облачко, вдоль зала.
Я пошел на выставку Шагала,
но тебя на выставке не встретил.
Только край оливкового платья
над зеленой крышей промелькнул.
***
 И вот они выплывают из прошлого –
И вот они выплывают из прошлого –
«сайгоновские» завсегдатаи:
взлохмаченные, небритые, вечно поддатые,
канувшие в Лету и вынырнувшие из Гудзона,
приглаженные, стриженные, вроде газона,
но по-прежнему непреклонно пьющие
и на всю нашу жизнь со своих небоскребов плюющие.
Правда, при ближайшем рассмотрении
небоскребы превращаются в довольно приземистые строения,
в подвалы, в каморки, в квартирки,
правда, с едой в холодильнике и мягкой бумагою для подтирки.
А былые собирания и выклянчивания мелочи
превратились в мелочь собирания и выклянчивания былого,
из которого умеючи
можно извлечь два-три свежих слова.
Но все остальное – по-прежнему там,
в шестидесятых-семидесятых,
и память ведет этих стриженых, гладких, поддатых,
возвращая к насиженным с детства местам,
где стакан бормотухи заедали пирожками с повидлом
те, кто были быдлом,
а стали «мидлом».